Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]
Теперь ничего от него не осталось, разве шрам у Катерины Авдеевны от виска к щеке, память о противодействии похмельному мужу.
Вот с того раза, как мы объяснились с хозяйкой насчет курения, начались мои галлюцинации. Первая была ерундовая. Пришел ночью ко мне незнакомый солдат-артиллерист, сел в ногах на постель, спросил:
— Ну что, Серега, докучают комары-то? Зудят?
Солдат был какой-то взопревший, точно из бани. Во мне страха не было, только любопытство: как это он через запертую дверь ввернулся.
— Комары замучили, — согласился я, — это точно. И что досадно — ничем их не выкуришь. Видишь, окно марлей закрыл. Перед сном обязательно всех до одного перебью, а только свет потушишь — гудят целой стаей. Вон руки все в волдырях — сосут кровь.
— Может, это и не комары, Серега, — устало сказал солдат.
— Кто же тогда?
— Может, это сигналы к тебе идут оттудова? — солдат ткнул перстом вверх. — Нам ведь всего понять не дано.
Разговор наш шел спокойно и обыденно, хотя этот человек и прокрался через запертую дверь. Его приход не вызвал во мне никаких особых эмоций, оттого я и понял, что галлюцинирую. И как только я это понял, солдат откланялся, сказав на прощанье:
— Ну бывай покедова, Серега. Дави своих комаров.
Больше не приходил.
Дальнейшие галлюцинации представали передо мной в виде ярчайших сцен-воспоминаний, в которых что-то я узнавал с отчетливостью, а что-то видел впервые. Было такое ощущение, что некий экран во мне только настраивается, но еще не заработал на полную мощность. Я, разумеется, понимал, что происходит неладное, следует немедленно вернуться в город и обратиться к соответствующему врачу, но летние дни были так хороши, ароматны и тягучи, на сердце было так легко и светло, что я откладывал отъезд. Хотелось досмотреть, что будет, когда неведомый экран окончательно настроится. Много гулял по лесу, собирал грибы, удил рыбу и однажды выудил с полведра плотвичек. Катерина Авдеевна наварила к ужину ушицы и нажарила рыбы с картошкой. Мы с ней вечером распили бутылку рислинга, угощались чаем из самовара. Засиделись допоздна, тихо, душевно беседовали.
— Расскажите поподробней о вашем муже, Катя, — попросил я. — Что он, в сущности, из себя представлял как человек? Мне любопытно.
У Катерины Авдеевны руки от вековой работы сухонькие, чистые, сморщенные, она их к глазам вскинула, точно смутилась. Раскрасневшаяся от вина, уютная, как потрескавшаяся домашняя чашка. Я ее никогда такой не видел, а помнил по каким-то далеким снам.
— Чего ж об нем теперь рассказывать — мужик был обыкновенный. У-у, такой, прости господи, серьезный. А ласковый. Один раз меня оглушил, конечно, табуретом. После плакал, умолял. Боялся, что я жалиться побегу в милицию. Куда я побегу? Родной человек.
— За что же он вас так?
— Было за что. Я на него зла не держу — было. Я ведь, дело прошлое, ему, родимому, в самогон скипидарну подлила. Это мне соседка присоветовала, Клавдя, товарка моя. Говорит: подсуропишь разок-другой такую смесь, его от вина воротить будет. Я сдуру и поверила. А того не взяла в разум, что Клавдя своего собственного мужика на тот свет спровадила.
— Как это?
— Обыкновенно. Жил он с ней дружно, веселый из себя был, корневой, крепкий, а потом возьми и преставься в одночасье. Клавдя его и укокошила. А как же. Иначе ей нельзя. Она на мужиков дюже свирепая. Да и то, осудить не за что. Гулящая ведь она, Клавдя-то. Мужичья много перевидала, вызнала все ихние фокусы. Конечно, и возненавидела.
— А почему вы, собственно, решили, что она мужа убила?
— Убила, убила, это уж ты не сомневайся. Как есть укокошила. Все про это знали. К нам следователь-проверяльщик приезжал, молоденький такой, с бородкой, обходительный, но больно пытливый. Он так и сказал: все вы, сказал, убийцы, себя не жалеете и близких своих. Чувствительно выразился.
— Может, он что другое разумел?
— Ничего другого. Про Клавдю он говорил. У нас других убийц нету. Все люди, милок, на виду.
— Значит, Клавдю вашу под арест забрали?
— Зачем под арест. Отпустили с богом. И пенсию ей за мужа положили — сорок целковых. Ничего, хорошая пенсия, жить можно.
Окончательно запутавшись, я отвернулся от смутного лица Катерины Авдеевны и стал смотреть в окно. Предчувствовал, что скоро придут галлюцинации, и немного волновался. За окном царила спокойная ночь, без звезд, но с тусклым мерцанием деревьев. Сидел долго, невменяемый, пока снова не вник в мерное бормотание хозяйки.
— Скипидарцу-то я плеснула немного, пузырек не цельный, а он, сердешный, выпил и аж задохнулся. Пятнами багровыми расцвел и все на пол норовил нагнуться, будто чего туда уронил. "Ну-ка, просит, Катя, стукани по хребту покрепше, кажись, кость в горловине застряла!" Тут я спужалась шибко. Не то меня спужало, что он корчится, а что про кость помянул. Не закусывал еще, а уж про кость ему почудилось. Не иначе, думаю, на мозги отрава пошла. Пришел час прощаться с родимым. Ну и открылась ему во всем, чтобы грех отпустил. "Это не кость, говорю и плачу, это я тебе от бабьего ума скипидарцу плеснула чуток!" Как он взвился до туч: "Зачем, шумит, ты надо мной такое учинила? Отвечай!"
Я, конечно, объяснила: от алкоголизму тебя хотела подлечить, от зеленой заразы отвадить.
Враз у него пятна с лица сошли, выпрямился во весь богатырский рост да и шмякнул меня табуретом. Вишь, до сих пор памятка. Эх, думаю, Данила, Данила! Такой вот он и был у меня, добрый, но справедливый.
— История, однако.
— Руки-то у него были — других таких теперь нету. Пройди по избам, где тумбочка резная, где шкапчик — все его работа. Многие приезжие ахают, интересуются: где, мол, купили. А нигде не купили, мой Данила смастерил. Его люди добром помнят. Что винцо жаловал — это правда. Так ведь кто его нынче не любит!
В свой флигелек я вернулся поздно, раскрыл книгу. Задремал уж перед петухами. Потом — как будто кто-то толкнул и ворохнул. Я глаза открыл и сразу сел в постели. От удивления сел, обычно долго еще потягиваюсь. Вижу я дома, в городе, и не в теперешнем своем возрасте, а будто мне двадцать пять лет. Дело к вечеру, и надо спешить на свадьбу к Коляне Корешкову, институтскому другу. Все это было однажды, и точно так я опаздывал, все до мелочей было реально, и я знал, что на свадьбе у Коляны познакомлюсь со своей теперешней женой Аленой и подерусь с самим Коляной — и все это были пустяки. Ужас охватил меня при мысли, что сейчас, через пару минут, я увижу свою покойную маму — живой! Страшным усилием сознания попытался вывернуться из галлюцинации — куда там. Только резкую боль ощутил во всем теле, точно с размаху ударился о стену. Уже торопливо гладил брюки, подбирал галстук, и уже мама была рядом. Второпях я оборвал пуговицу у пиджака, мама ее быстренько пришила. Тайком, с нежностью прикоснулся к ее волосам, боялся, что она ускользнет в тот мрак, куда ушла однажды безвозвратно… Выскочил на улицу, купил на углу букет гвоздик — все так, как было сто лет назад, и мне немного смешно оттого, что знаю наперед: цветы эти достанутся не жениху с невестой, а незнакомой девушке. Брел по улице, молодой и напористый, насвистывал что-то сквозь зубы, дерзко оглядывал прохожих, и все это происходило наяву, но явью было и то, что я лежу во флигельке у Катерины Авдеевны, одинокий, запутавшийся пятидесятилетний мужчина, и неподалеку буркает во тьме сумрачная река Тверда. Я чувствовал прилив сил необычайный оттого, что сумел вырваться из плена времени и вернулся на круги своя.
На углу возле аптеки прикурил у инвалида. Я больше не торопился. На свадьбе все было предписано прошлым, а тут, по дороге, можно было надеяться на что-то такое, чего не знал доселе. Но свернуть с пути я не мог, мог только задержаться немного. Заговорил с инвалидом, у которого от старости слезились глаза и подрагивала рука с сигаретой.
— Здесь процессия не проходила? — спросил я озабоченно.
Инвалид высоко поднял деревянную ногу и внимательно ее оглядел. Нога была новенькая, поблескивала свежим лаком.
— Тебе чего надо, парень?
— Процессия, спрашиваю, не проходила по этой улице?
— Похороны, что ли?
— Почему обязательно похороны? Может быть, наоборот.
Инвалид долго думал, почесывая себя под мышкой. Он курил "Столичные", хотя в то время таких не выпускали. Это меня озадачило.
— Процессий здесь отродясь не было. Да и ты, парень, ступал бы отсель.
— Почему так?
Вдруг мне померещились в нем черты солдата-артиллериста. Но лишь померещились.
— Спешишь ведь, так и ступай.
— Поспею. А вы, дедусь, в артиллерии не служили?
— Иди, иди, опаздываешь!
Он меня почему-то старательно торопил, но я не хотел никуда поспевать. Тем более туда, где поджидала меня Алена. Ох, все равно успеем мы с ней нарожать детей. Хотел было свернуть за угол, откуда доносились звуки осторожной музыки. Я вспотел от желания туда свернуть.
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/122894/122894.jpg)
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/133327/133327.jpg)
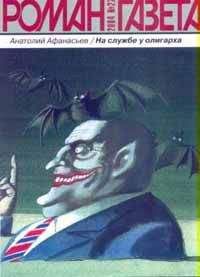
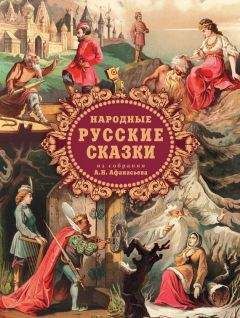
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)